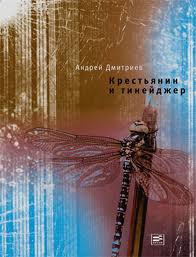"Нашу жизнь объединяет присущее человеку стремление к обретению счастья. Пожалуй, наиболее наглядно реализацию этого стремления демонстрируют как раз совершаемые нами путешествия — во всем их многообразии, во всей парадоксальности и эмоциональной насыщенности. Именно они выражают — пусть и не слишком очевидно — наше понимание того, какой именно, по нашим представлениям, должна быть жизнь, та самая жизнь, которая не укладывается в рамки повседневной работы и борьбы за выживание". (Ален де Боттон)
Дюжина лучших мест книги.
1. На нас постоянно обрушивается поток советов и рассуждений о том, куда нам следует съездить; гораздо реже мы задумываемся и говорим о том, почему или как нам нужно ехать в то или иное место, — и это несмотря на то, что искусство путешествовать самым естественным образом ставит перед нами целый ряд далеко не простых и не тривиальных вопросов, изучение которых может, пусть и в достаточно скромной степени, приблизить нас к пониманию того, что великие греческие философы подразумевали под изящным и вместе с тем торжественным термином «эвдаймония» — высшее состояние ума, уподобление человеческой жизни божественному существованию.
Один из этих вопросов касается взаимоотношений между предвкушением путешествия и реальностью поездки. В свое время мне в руки попал экземпляр опубликованного в 1884 году романа Жориса Карла Гюисманса «Наоборот». Герой этой книги — изнеженный, неспособный к самостоятельным действиям аристократ-мизантроп герцог Эссент — долго мечтал о том, чтобы съездить в Лондон. По ходу излагаемых от его лица рассуждений читатель знакомится с весьма пессимистичным анализом различий между тем, чего человек ждет и что ожидает увидеть в том или ином месте, и тем, что его ждет на самом деле, когда он туда приезжает.
Герой повествования Гюисманса герцог Эссент жил один, без семьи, в роскошном особняке в окрестностях Парижа. Из дома он старался выходить как можно реже, с тем чтобы сократить до минимума количество контактов с окружающим миром и в первую очередь — с глупостью и уродством населяющих его людей. Как-то раз, еще в юности, герцог прогулялся до ближайшей деревни, провел там несколько часов и почувствовал, что уже тогда испытываемое им презрение к большей части представителей человеческого рода стало ощущаться лишь сильнее. С тех пор он практически не покидал пределов своего поместья и проводил день за днем на диване в кабинете, предаваясь чтению классиков мировой литературы и весьма едким и язвительным размышлениям о судьбах человечества. В одно прекрасное утро герцогу удалось удивить самого себя: он с немалым удивлением обнаружил, что воспылал желанием побывать в Лондоне. Судя по всему, это желание сформировалось в нем, пока он сидел у камина, проглатывая страницу за страницей очередного тома Диккенса. Картины английской жизни вставали перед его взором, как наяву, желание лично окунуться в эту жизнь казалось непреодолимым. Впрочем, герцог и не собирался бороться со своими прихотями и желаниями: он немедленно приказал слугам собирать вещи и готовиться к отъезду. Оделся он, разумеется, именно так, как подобало для этой поездки: в серый твидовый костюм, высокие, почти по колено, кожаные сапоги на шнуровке и шляпу-котелок. Набросив на плечи плащ-накидку из голубой инвернесской шотландки, герцог поспешил на станцию и первым же пригородным поездом приехал в Париж. До отправления поезда в Лондон оставалось несколько часов. Чтобы потратить это время с толком, герцог первым делом направился в английский книжный магазин Галиньяни, расположенный на улице Риволи. Там он, разумеется, купил себе подробный путеводитель по Лондону издания Бедекера. Лаконичные фразы и чеканные формулировки путеводителя, словно магические заклинания, погрузили его в очарование британской столицы. Чтобы спокойно просмотреть купленную книгу, герцог перебрался в расположенный по соседству винный бар, большую часть клиентуры которого традиционно составляли жившие в Париже англичане. Атмосфера в баре была просто диккенсовской: герцогу ничего не стоило, представить себе, как в таких же уютных светлых комнатах проводят свои дни крошка Доррит, Дора Копперфильд и Руфь — сестра Тома Пинчера.... Один из посетителей напомнил ему сразу двух персонажей Диккенса: седой шевелюрой и румянцем — мистера Вигфильда, а острыми чертами бесстрастного лица и неподвижными, словно бесчувственными, глазами — мистера Талкингорна.
Проголодавшись, герцог Эссент прогулялся до английской таверны, расположенной на улице Амстердам по соседству с вокзалом Сен-Лазар. Здесь, в зале ресторана, было сумрачно и накурено. Вдоль барной стойки выстроились краны для разлива пива, подававшегося с ветчиной, коричневой, как дека старой скрипки, и с лобстерами цвета расплавленного свинца. 3а небольшими деревянными столиками сидели высокие, крепко сложенные англичанки с несколько мужеподобными лицами, с огромными, как штукатурные шпатели, зубами, красными, как яблоки, щеками и длиннющими руками и ногами. Герцог Эссент нашел свободный столик и заказал себе тарелку супа из бычьих хвостов, копченую пикшу, порцию ростбифа с картошкой, пару пинт эля и ломоть стильтонского сыра.
Все вроде бы шло как по маслу, но чем ближе подходило время отправления лондонского поезда, чем реальнее становилась перспектива поездки в Англию, тем с большей силой накатывали на герцога апатия и уныние. Он представил себе, каких трудов будет стоить ему сама поездка; как еще до того, как сесть в вагон, ему придется добираться до вокзала, договариваться с носильщиком; как потом он будет мучиться в незнакомой гостиничной кровати, стоять в очередях, мерзнуть и терзать свое слабое тело прогулками по тем самым местам, которые уже так блестяще описал Бедекер в своем путеводителе. Эти образы и размышления очень быстро привели герцога к простой и вполне предсказуемой для него мысли: «Зачем куда-то ехать, если человек может замечательно путешествовать, не вставая с кресла. Разве я сейчас внутренне уже не в Лондоне? Вокруг меня — лондонская погода, лондонские запахи, люди, еда и даже посуда и столовые приборы. Что нового увижу я в Лондоне, добравшись туда наяву? Что ждет меня там, кроме новых разочарований?» Сидя за столиком в английском ресторане, герцог Эссент предавался размышлениям: «Наверное, на меня что-то нашло, наверное, я поддался какому-то нелогичному эмоциональному порыву, когда отверг образы, порожденные моим послушным вышколенным воображением, и, как деревенский дурачок, купился на то, что поездка за границу может оказаться интересным, познавательным и полезным делом».
В общем, герцог Эссент заплатил по счету в ресторане, вышел на улицу и первым же пригородным поездом вернулся в свое поместье — вместе со всеми чемоданами, коробками, саквояжами, свертками, зонтиками и тростями. Больше он из дома не выходил.
2. Задолго до своей так и не состоявшейся поездки в Англию герцог Эссент хотел побывать в еще одной стране — в Голландии. Он представлял себе эти места такими, какими они представали на картинах Тенирса и Яна Стена, Рембрандта и Остаде. Он ожидал увидеть патриархальную простоту и безудержное, даже мятежное веселье. Его воображение рисовало маленькие мощеные дворики, окруженные кирпичными стенами, и бледных девушек, разливающих молоко по кружкам. И вот наш герой отправился в путешествие. Он побывал в Харлеме и Амстердаме — и остался весьма и весьма разочарован. Нет, великие живописцы не обманули его — были в этой стране и простота, и веселье, встречались и очаровательные дворики и служанки, разливающие молоко. Но эти жемчужины просто терялись в густой мешанине самых обыкновенных картин и образов (обыкновенных ресторанов, каких-то учреждений, одинаковых домов и безликих полей), которые никому из голландских художников и в голову не пришло запечатлевать на холсте. Таким образом, впечатления от поездки в реальную страну оказались странным образом менее яркими и выразительными, по сравнению, например, с прогулкой по голландским галереям Лувра, в которых ознакомиться и даже постичь квинтэссенцию подлинной красоты Голландии можно буквально за несколько часов.
В конце концов, герцог Эссент осознал парадоксальность своего восприятия, когда понял, что в гораздо большей степени чувствует себя в Голландии — то есть гораздо более тесно входит в контакт с теми элементами голландской культуры, которые приводили его в такое восхищение, — когда наслаждается созерцанием излюбленных голландских сцен, типажей и пейзажей в музейном зале, чем когда путешествует по столь горячо любимой им стране в сопровождении двух слуг и с шестнадцатью местами багажа.
3. На самом же деле способность человека извлекать счастье из эстетически совершенных объектов или же материальных ценностей находится в критической зависимости от степени удовлетворенности куда как более важных эмоциональных и психологических потребностей, среди которых в первую очередь следует выделить такие параметры, как спобность в понимании, в любви, в самовыражении и уважении. Никакие прекрасные тропические сады, никакие роскошные отели на самых великолепных пляжах не доставят нам радости, если мы вдруг обнаружим, что в наши отношения с любимым человеком закрались недоверие, непонимание и взаимное отторжение.
4. С точки зрения архитектуры здание кафе было полным убожеством. Внутри помещения пахло многократно пережаренным маслом и сдобренным искусственным ароматом лимона средством для мытья полов. Вся еда там казалась какой-то жирной и клейкой, а столы «украшали» цепочки буро-красных озер и холмов — капли кетчупа, разбрызганные пообедавшими здесь и давным-давно уехавшими путешественниками. Тем не менее было в этом унылом заведении что-то щемяще трогательное. Забытое богом кафе при заправочной станции несло в себе крупицу поэзии, свойственной всякому месту, так или иначе связанному с путешествиями. Эта поэтичность, эта щемящая тоска являются неотъемлемыми спутниками портовых терминалов, залов ожидания аэропортов, вокзалов и мотелей.
5. Электрические вилка и розетка, смеситель в ванной, банка из-под джема или тот же указатель в аэропорту — все эти вещи могут сказать нам больше, чем вкладывали в них даже их создатели-дизайнеры. Они ни много ни мало могут поведать нам об истории и культуре того народа, который создавал их такими, какими они стали.
6. ...Флобер с величайшим презрением отзывался о «великой цивилизации», которой, как он считал, нечем было гордиться, кроме как «паровозами, ядами, кремовыми тортами, институтом королевской власти и гильотиной». Собственная же жизнь, по словам самого Гюстава, была «стерильной, банальной и при этом страшно тяжелой...
Люди, жившие в те времена на побережье Северной Африки, Саудовской Аравии, Египта, Палестины и Сирии, немало удивились бы, узнав, что для какого-то юного француза даже названия их стран стали чем-то вроде синонимов для всего хорошего, что есть в мире. "Да здравствует солнце, да здравствуют апельсиновые рощи, пальмы, цветы лотоса и прохладные павильоны с полами, вымощенными лавром, и комнатами с деревянными панелями на стенах и резными дверями, за которыми слышится шепот любви! — восклицал Флобер. — Неужели я никогда не увижу древние некрополи, над которыми по ночам, когда верблюды и караванщики отдыхают рядом с колодцем или источником, слышится вой гиен, от которого, кажется, готовы ожить мумии древних правителей?"
... Впервые я увидел Восток наяву пылающим под нестерпимо жаркими лучами солнца — словно расплавленное серебро разлилось по поверхности моря. Вскоре на горизонте показался и берег. Первое, что я увидел на причале, — это два верблюда, которых вел за собой погонщик. Чуть поодаль, на краю пристани, несколько арабов преспокойно ловили рыбу. По трапу мы сошли под оглушительный аккомпанемент. Такую какофонию трудно даже себе представить: повсюду — темнокожие мужчины и женщины, верблюды, тюрбаны, направо и налево раздаются пинки и удары погонщиков, причем все это сопровождается беспрестанными гортанными, режущими слух выкриками. Я жадно глотал эти звуки, краски, как какой-нибудь голодный осел, набивающий себе брюхо соломой.
7. Почему же мы так легко поддаемся очарованию таких мелочей, как входная дверь в дом в чужой стране? Почему можно влюбиться в страну или в город просто потому, что там есть трамваи, а люди редко вешают занавески на окна в домах? Какой бы абсурдной и преувеличенно бурной ни казалась наша реакция на некоторые мелкие (и в общем-то мало о чем говорящие) детали в заграничной жизни, на самом деле подобные ситуации хорошо знакомы любому по собственной жизни. Мы ведь порой точно так же влюбляемся в человека из-за ерунды, например, приходя в восторг от того, как он намазывает масло на хлеб.
8...мы так высоко оцениваем отдельные детали иностранного быта далеко не только потому, что нам они в новинку. Нет, просто порой они оказываются куда ближе нашему внутреннему восприятию мира и нашим представлениям о том, что красиво и удобно, чем все то, что может предложить нам родина... Порой то, что мы с восторгом воспринимаем за границей как экзотику, на самом деле является именно тем, чего нам так не хватало дома.
9. Фотографирование может в какой-то мере утолить жажду обладания, порожденную красотой того или иного места. Наша тревога по поводу того, что воспоминания о прекрасном моменте сотрутся в памяти, шаг за шагом отступает с каждым щелчком затвора. Кстати, эффект можно попытаться усилить, лично сфотографировавшись на фоне того или иного красивого места. Смысл этого почти ритуального фотографирования, наверное, выражается в простом, но по-своему изящном постулате: таким образом человек надеется сохранить красоту в себе, сохраняя хотя бы зрительно себя в ней...Более скромным и куда более разумным шагом будет покупка сувениров — какой-нибудь местной керамической миски, лакированной шкатулки или пары сандалий (Флобер, кстати, купил себе в Каире три ковра). Это поможет нам сохранить более яркие воспоминания об ушедшем и утраченном — точно так же, как оставшийся в медальоне локон возлюбленной, ушедшей к другому.
10. (Джон Раскин) Джентльмены, я хочу, чтобы вы поняли: я не пытался научить вас рисовать. Мне было важно, чтобы вы научились видеть. Представьте себе, как два человека проходят через рынок Клэр, и один выходит оттуда, ничуть не изменившись и не став хотя бы чуточку мудрее и богаче. Другой же замечает веточку петрушки, свисающую через край корзины женщины, продающей масло. Этот человек уносит с собой и сохраняет в памяти бесчисленное множество подобных прекрасных зарисовок. Эти образы, исполненные красоты, делают его внутреннюю жизнь богаче и прекраснее. Вот я и хочу, чтобы вы научились замечать подобные детали, чтобы вы видели вокруг себя прекрасные образы»
11. Раскина поражало и огорчало, насколько редко люди обращают внимание на детали. Он искренне сокрушался по поводу слепоты современных ему туристов, в особенности тех, кто гордо сообщал друзьям и знакомым, что объехал всю Европу за неделю...: "Путешествие, совершенное со скоростью сто миль в час, ни в коем случае не сделает нас внутренне сильнее, счастливее или мудрее. В мире всегда есть и будет то, к чему нужно подходить медленно. Чем быстрее мы проносимся мимо таких мест, тем меньше видим, меньше запоминаем и меньше понимаем. Подлинную ценность имеет не скорость, а неспешное созерцание, осмысление и запоминание".
Факт, что мы совершенно отвыкли обращать внимание на детали, на важные и, быть может, красивые мелочи, находит подтверждение в том, что мы практически не способны заставить себя остановиться и постоять, разглядывая тот или иной объект хотя бы столько времени, сколько потребовалось бы на то, чтобы сделать минимально точную зарисовку этого предмета, человека или пейзажа. Для того чтобы сделать набросок, например, дерева, потребуется минут десять сосредоточенного внимания. Мы же прекрасно понимаем, что даже самое красивое дерево вряд ли заставит нас задержаться и уделить ему больше минуты...
12... удовольствие, которое мы получаем от путешествия, скорее всего, в гораздо большей степени зависит от того, в каком настроении и состоянии души находится путешественник, чем от того, куда именно он едет. Если бы нам удавалось в нужный момент настроить себя на волну путешествий, не выходя при этом из дома, то мы увидели бы много нового и интересного в своем ближайшем окружении. Собственный дом и родной город могли бы привести нас не в меньший восторг, чем величественные горные перевалы или кишащие бабочками джунгли гумбольдтовской Южной Америки.
Вердикт: отлично, вкусно написанная книга - сборник философских мыслей для любителей путешествовать и осознавать, что же такое есть само путешествие в жизни человека.